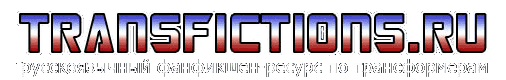Yeah,
My durango, number 95
Take me to the home,
Kick boots and ultra live.
See heaven flash a horrorshow.
Knock it nice and smooth,
Step back and watch it flow, yeah!
Never gonna stop me...
Rob Zombie
*
Времена года сменяют друг друга, выступая гарантами устойчивости мира. С каждым новым сезоном время ускоряет ход, только успевай отрывать листки календаря. Невозможно удержать лето в объятьях, как бы ни хотелось, даже если это самое особенное лето на свете. Оно растворится во времени, чтобы, пройдя зиму, унести скорбь и возродиться вновь, но никогда не стать прежним. Солнце раскаляется, воздух дрожит, горизонт становится далеким, наступает сезон смерчей. И бросая взгляд в небо, хочется наконец начать на что-то надеяться, пока ты жив.
В дверь постучали.
Кейд нащупал часы. Чёртовы семь утра. Голова гудела. Солнечные лучи ложилось на постель треугольником сквозь криво задернутые жалюзи.
Он спустил ноги с кровати и еще какое-то время сидел, приходя в себя.
Стук повторился.
Кейд выругался и, протирая глаза, стал рыться в бардаке на полу. Нашел сначала старое радио, раздраженно отбросил сколотый серый корпус. Затем пластиковую бутылку с противной теплой водой. Набрав воды в ладонь, протер лицо, остатки выпил. Только потом раскопал футболку, джинсы, ботинки и поспешил со второго этажа к двери. Если это опять про пикап, он разобьет кое-кому рожу битой. Бита лежала на обувной стойке у входа, ожидая своего часа.
– Я насчет вашей машины.
Соседу – Кейд силился вспомнить его имя – было около пятидесяти. Он стоял на крыльце, засунув большие пальцы в карманы светлых брюк. Красная рубашка делала его щеки еще ярче. Он был высок, полноват и обладал характером настоящего южанина.
– Доброго утра и вам, – Кейд кивнул на пикап, кое-как припаркованный на траве возле крыльца.
Иногда он оставлял автомобиль на узкой дороге прямо у въезда на ферму, мешая соседям.
– Нет... сэр, – мужчина сделал ударение на последнем слове. – Я не про эту машину. Я про другую. Она торчит там с шести утра, я ее еле объехал. Заведите уже нормальный гараж или я подам на вас жалобу.
– У меня нет другой машины.
– Прекратите пудрить мне мозги, Йегер. Пейте меньше – мой вам добрый совет. Вас как будто полночи били. И уберите свой грузовик. Он же огромный, как дом.
Сосед смерил Кейда взглядом и спустился с крыльца.
Кейд вышел вслед за ним.
– Черт, – это всё, что он сказал.
Грузовик действительно перегородил дорогу, капот и колеса были запачканы высохшей грязью. Утреннее солнце полировало хромированные трубы.
Мистер «Доброе утро», пройдя мимо, посмотрел на тягач с таким же раздражением, что и на Кейда, сел в оставленный рядом с грузовиком джип и резко снялся с места, взбив пыльные облачка. После того, как джип пропал из вида, наступила тишина.
Кейд разглядывал грузовик какое-то время, машинально покручивая кольцо на безымянном пальце. Потом пошел к машине. Дорога от крыльца до въезда показалась ему ужасно длинной. Сердце пропустило удар. Он осмотрел корпус с крохотными сколами краски, дотронулся до решетки радиатора и нерешительно вытер слой пыли с поверхности. Потом прижался к холодному капоту, закрыв глаза. Он стоял так очень долго, осторожно проводя пальцами по гладкому металлу, словно проверяя его на соответствие реальности.
Раньше он так прижимался к Оптимусу утром, если им приходилось ночевать где-то на природе. Утром Кейд испытывал к Прайму какую-то особенную нежную привязанность, может потому, что автобот казался ему не таким далеким и серьезным, не успевал зарядиться своей мрачной межрасовой философией. Рано утром голова у Кейда еще ватная, а Оптимус молчалив, но не угрюмо, как обычно, а как-то безмятежно, и успокаивающе ленив в движениях. Только шипит, стравливая воздух, и гудит, разогреваясь после многочасовой паузы. И пока еще холодно и зябко, можно приникнуть туда, где броня не такая мощная, и почувствовать его тепло. Потереться о его руки, и это не кажется неуместным. А Оптимус накрывает его ладонью, прижимая к себе, отчего опять хочется свернуться клубком и уснуть.
Грузовик молчал и Кейд тоже. Молчал и боялся. Слышен был только шорох листвы, которую начинало пригревать солнце.
– Я вернулся, – сказал наконец Оптимус.
*
Прайм распахнул дверцу.
Такой жест служил приглашением для безбилетников, желающих по тайному ходу пробраться в страну ужасных чудес. Только в кроличью нору нельзя прыгнуть дважды – это не по правилам. По крайней мере, на этой стороне у Кейда была возможность спать в обычной кровати и видеть наконец нормальные сны; обсуждать с Тессой житейские проблемы в сети или вживую, когда она приезжала каждые лето и зиму; засиживаться до ночи с отвертками и паяльником в располагающей обстановке мастерской, ведь уют – это далеко не всегда порядок. Ремонтировать что-нибудь банальное под болтовню диджеев с местной радиостанции. Или смотреть матчи по пятницам, закинув ноги на кухонный стол и бросая в мусорное ведро трехочковый смятыми жестянками «Д-р Пеппер». В жизни, постепенно вернувшейся на круги своя, он был хозяином себе и своему времени. И черт возьми, это была нормальная, хорошая жизнь. Она его устраивала. Он наконец успокоился. И бросил курить.
За дверцей существовала только тревожная гонка с судьбой по ночной пустынной трассе сквозь пылевую бурю. Фары освещают короткий отрезок пути, и он тут же проваливается под колеса, а вокруг – непривычная человеческому глазу тьма. Черные скалы по обе стороны дороги сливаются с черным небом, тянутся сквозь пустоту холодной сухой ночи. Только жар далеких пожарищ чужой планеты окрашивает линию горизонта оттенками ржавчины и крови. Звезды подмигивают сверху, рассыпаясь белой наркотической крошкой. Костры, разожженные холодными руками, тлеют по обочинам среди мусора, порождая длинные пугающие тени. Воют койоты и хлопают крыльями стервятники, рассаживаясь на крышах заброшенных заправок и баров. На покосившихся вывесках остатки неоновых букв мерцают алым и синим: бар «Я тебе не по зубам», закусочная «Мустанг, поедающий ковбоя», заправка «Делай, что я говорю».
На заправке брошенные шланги змеями извиваются на асфальте, из них хлещет бензин. Кто-то невидимый щелкает зажигалкой. Красная искорка во мраке. Ветер гоняет обрывки газет. Вход в закусочную заколочен досками. Сквозь них пробиваются едва слышные отзвуки нежных виниловых голосов. Некому выключить джукбокс, и он раз за разом проигрывает призрачные напевы. Над входом колышется дырявый красно-белый флаг со звездами. Окна заклеены выцветшими плакатами, на которых бешеный мустанг встает на дыбы, ощерив острые зубы.
В баре царят полумрак и холод, посетители нарисованы углем на благородных стенах мореного дуба. Над барной стойкой в бронзовой раме висит голова быка, его глаза налиты кровью, рога покрыты паутиной. Бутылки темного стекла со стертыми этикетками расставлены вдоль стены. Бармен в черном жилете разливает огненную воду по стопкам и заученным движением отправляет их скользить по стойке. Они собираются на самом краю и вот-вот упадут. Рукава белой рубашки бармена закатаны, они открывают костяные руки. За поясом заряженный пистолет. Бармен протирает стойку, кивает в пространство с понимающим видом и молчит. В этом баре он навечно. Обречен следить, как за дребезжащими окнами ветер с гулом несет пылевые облака в бесконечной ночи.
Возле бара, на призрачном перекрестке миров, диаблеро в обличье большого лохматого пса бросается в погоню за пролетающим мимо автомобилем, лает и хохочет, исходя слюной. Но даже черная магия не может помочь ему обогнать молчаливых демонов с глазами из голубого льда, запаянных в тяжелые доспехи. Грузовик в одиночестве едет прямиком из ада под «Блюз Винсента Прайса». Едет по шоссе мертвецов, выстроившихся вдоль дороги, чтобы в последний раз отдать честь своему командиру. Его капот покрыт сажей и похож на морду раненого зверя, из-под колес летит прах, из выхлопных труб вырывается огонь. Он ждет, пока какой-нибудь одинокий, бредущий по обочине путник не поднимет легкомысленно руку в надежде поймать попутку на пути в никуда.
*
Кейд забрался в кабину. По крайней мере, в одном он был уверен: Прайм не знал никаких правил про кроличьи норы, кроме тех, что устанавливал сам.
Ремни с шелковистым шорохом натянулись, проскользнув по груди и животу, сочно щелкнул замок, кресло мягко подстроилось под тело.
– Попался, – в голосе Прайма звучало удовлетворение.
– Почему ты хотя бы не посигналил, когда приехал?
– Я старался не шуметь, пока не закончится время твоей подзарядки.
Кейд откинулся на спинку, ему было тяжело сосредоточиться и подобрать слова. Он отвык от этого запаха, от солидного салона с десятками датчиков на приборной панели, отсчитывающих ритмы механического сердца. Отвык от гладкого покрытия сидений, от кожи Оптимуса. Так приятно было до нее дотронуться. К спинке кресла так хорошо было снова прижаться – до умопомрачения хорошо. Он с наслаждением вытянул ноги.
Чёрный и хром. Что бы ни происходило снаружи, внутри Оптимус всегда выглядел, словно только что покинул люксовый автосалон. А вот он сам... Кейд оглядел потертые джинсы, футболку, перепачканную грязью с капота. Расчесал волосы пальцами. Деревенщина как есть. Оптимус никогда не высказывался по поводу его внешности, но все равно как-то неудобно...
Грузовик осторожно стал сдавать назад, выворачивая колеса в попытке разместиться на одноколейной дороге, и сразу двинулся в путь.
Кейд немного сполз по сидению, ремни сильнее прижались к телу. Он смотрел, как дорога исчезала под капотом. Прайм молчал. Кейд закрыл глаза. Так ощущать ход огромной машины было легче. Снова прочувствовать каждое движение, прислушаться к каждому звуку. Солнце оставляло темно-желтые пятна на внутренней стороне век.
Он словно плыл на корабле по невидимому морю, только волны не плескались о борта, а шуршали сначала гравием, а после асфальтом. И казалось, что кроме этого ничего не существовало, как будто на свете вообще больше ничего не было – только солнечные зайчики на хроме, желтое на голубом, теплый ветер, жесткая подвеска. А вдали свободная трасса в окружении линий электропередач, присыпанная рыжим песком вплоть до сиреневых гор, прячущихся в дымке на горизонте. Дорога на Шугар Ленд, где счастье фасуют в красные рождественские коробочки, перевязанные белой лентой.
*
Кейд очнулся, когда солнце приближалось к зениту. Поля сменились кустарником, а низкие серые скалы, изъеденные ветром, стали подступать вплотную к дороге. Мелькнул белый покосившийся указатель «Вы покидаете...». Места казались совсем незнакомыми.
– Куда мы едем?
– Мы закончили наш разговор на том, что поедем в Вегас.
– И ты собрался туда прямо сейчас?
– Да. Я думаю, это важно для тебя. Ты спрашивал, я помню.
– Ты хоть понимаешь, сколько времени прошло?
– Это сейчас тоже важно?
– Нет, это ерунда, если ты считаешь, что ничего не произошло. Взять и бросить меня так надолго, свинтить куда-то, ничего толком не объяснив. Потом вернуться и сделать вид, что ничего не изменилось. Не предупредить. Не рассказать мне, как ты. И не спросить даже, что я без тебя... Это жестоко, Оптимус.
– Я выслушаю всё, что ты посчитаешь нужным сообщить. Но уверен, что время в разлуке не может быть важнее времени, проведенного вместе. Я вижу, что твои жизненные показатели в норме, я так этому рад. Но не говори со мной о жестокости, об этом ты даже представления не имеешь.
– Хорошо, я заткнусь. Только уж прости, я не собирался сегодня никуда ехать. Я не взял денег, я не запер дом и со вчерашнего дня не ел. Но такие мелочи тебя не беспокоят.
– Сейчас у нас действительно нет причин беспокоиться. Это редкость, затишье между бурями, такое время особенно ценно. Я не переживал подобного очень давно.
– Ну, тогда расскажи хотя бы про себя, что тебе удалось сделать.
– Позже. Я бы не хотел портить подобными рассказами эти мгновения. Произошедшее в самом деле сейчас не так уж важно. Мой долг исполнен. Здесь нечего обсуждать.
– Я понял. Отвези меня домой.
Сколько раз можно было видеть сны или, напившись, бредить о том, что Прайм вернется и всё будет хорошо, просто отлично, как в финале простеньких фильмов: дорога в розовый закат и титры. Прайм вернулся. И Кейд понимал, что они не потратили на разговор и нескольких минут, а Оптимус уже начинает выводить его из себя. Показатели у него в норме... Хотя бы на слова утешения он мог рассчитывать? На вопросы о том, чем занимался все это время (ничем особенным, в общем-то), как себя чувствовал. На прикосновение рук наконец. Вегас ему вообще не сдался ни тогда, ни тем более сейчас.
Грузовик начал плавно сбрасывать скорость, забирая к обочине. Это было что-то новое, обычно он на ходу впивался всеми колесами в асфальт. В такие моменты Кейду казалось, что Прайм хочет убить его прямо в кабине. Оптимус постоял некоторое время у линии разметки, решая что-то на холостых оборотах. Потом развернулся.
– Твои интонации подсказывают мне, что ты не в духе, – сказал он. – Но я рад тебе в любом настроении. Я думаю, дорога тебя излечит, особенно, если это дорога к дому. Мы будем ехать, пока тебе не станет лучше.
Выщербленные скалы стали двигаться в обратную сторону. Грузовик быстро набирал скорость. Кабина наполнилась радиоголосами, Кейд пытался определить станцию, но символы на дисплее аудиосистемы не были похожи на цифры или буквы. Кейд сомневался, что это вообще человеческий язык.
– Что мне по-прежнему нравится в вашей культуре – это музыка. В ней заложен ритмический рисунок, который обладает приятным мне резонансом. Я люблю прислушиваться к разным ритмам. Самый лучший и главный для нас ритм – пульсация Искры. А для меня – твой.
– Если это опять «Забытые хиты», я выпрыгну из кабины.
– Ну...
– Так, это «Поймай падающую звезду». Я прыгаю.
– Рискни.
Ремни безопасности отстегнулись и дверца открылась на ходу. Поток встречного ветра сразу же попытался ее захлопнуть, в салон ворвался горячий воздух.
Кейд вцепился в подлокотники.
– Кто-то из нас двоих слишком легкомысленно разбрасывается словами, – Оптимус закрыл дверцу и продолжил слегка раскачиваться в такт песне.
Кейд поежился. Опять шуточки.
– У меня было достаточно времени подумать о тебе и твоем поведении, – сказал Прайм. – Мне нравится размышлять, в том числе о тебе. Прочие мысли ведут меня дорогой скорби. О чем бы я ни рассуждал в свободное время, я все равно возвращаюсь к Кибертрону и моим автоботам. И чем больше о них думаю, тем хуже себя чувствую. Я это заслужил. Но иногда я позволяю себе думать о чем-то ином.
Знаешь, что я заметил? Ты всегда садишься на водительское сидение. И в этот раз ты поступил точно так же. Ты даже не интересовался никогда, разрешаю ли я это. Между тем, те редкие люди, которые бывали в моем салоне раньше, либо спрашивали мое мнение, прежде чем выбрать место, либо сразу занимали кресло рядом с водительским. Это называется субординация, она так же важна, как и дисциплина. Я вернулся, но не заметил, чтобы ты работал в этом направлении.
– Да какая разница-то?
– Вот об этом я и говорю. Например, класть ноги на приборную панель тоже не вежливо, если хорошенько подумать. Или забывать в моем салоне свои бутылки. Если я трансформируюсь, это может послужить помехой. Не делай такое лицо. Далее. Ты прекрасно знаешь, как на меня действует твое присутствие. Сейчас я ощущаю его еще острее, чем прежде. Этим ты доставляешь мне большое удовольствие. Но поскольку ты очень беспокойный и тебе необходимо часто сбрасывать напряжение, возможно, лучше попросить меня остановиться. Если ты опять будешь заниматься этим на ходу, я буду отвлекаться.
– В жизни не видел таких лицемеров.
Прайм не ответил, возможно обдумывая сказанное.
Вот что смущало в Оптимусе больше всего – не его идеи о жизни, не его тело, которое, имитируя человеческое, все равно оставалось пугающе инопланетным: его неземное происхождение сразу проявлялось в пропорциях и пластике движений. Дело было и не в его манере излагать мысли. А она иногда ужасно раздражала. Самое странное – это то, как он пользовался своим молчанием. Будто заточил его, как запасной клинок, и вытаскивал из ножен при случае.
Чаще всего Кейду приходилось дрейфовать в океане космического безмолвия, пытаясь пришвартоваться к островкам повседневности, которые проступали на величественной глади, если Прайм говорил или делал что-то по-человечески привычное: моргал, хмурился, протягивал руки. А не «просто» ехал, «просто» стоял, «просто» молчал. Кейд плохо понимал, как у Прайма получается так стоять, иногда сидеть. Садился он редко, в основном если Кейд хотел с ним о чем-то поговорить. Чаще замирал стоя или в альтмоде на долгие часы, словно отключаясь от реальности, думал о чем-то или калибровал системы. Внимал ритмам, которые Кейд не мог слышать – безмолвно, недвижно, как будто и не живой. Рехнуться можно.
Молчание бывало тягостное, раздраженное, заинтересованное. Бывало прерванное вдруг – без видимой причины – долгим отвлеченным монологом.
И если часто он молчал скорее в силу своей природы, то иногда нарочно, выводя из себя показным равнодушием. Молчал и делал кое-что, отчего у Кейда начинали трястись руки.
Самые простые дела, вошедшие в привычку любого водителя, в присутствии Прайма превращались в ритуалы с двойным смыслом. Нельзя было пристегнуться как обычно, потому что Оптимус не упускал случая это прокомментировать. Нельзя было самому отрегулировать сидение, потому что из способа сесть поудобнее это превращалось в межрасовый флирт. И тем более, не получалось крутить его руль – когда Прайм позволял – просто так, без задней мысли.
Конечно, в пикапе о таком не задумываешься. Но пикап и не пытается заигрывать с тобой на ходу.
В какой-то момент пути – а Прайм всегда выбирал тот, когда человек рассеяно смотрел на дорогу или начинал дремать – Кейд ощущал, что ремни натягиваются сильнее. И вроде бы ничего особенного, но к видам за стеклом уже было не вернуться. Взгляд цеплялся за ритмичный рисунок на гладких лентах.
Кресло начинало раскладываться. Спинка медленно опускалась назад, подлокотники уходили вниз, сидение наоборот приподнималось. Равно настолько, чтобы сидеть уже не получалось, а лечь было еще неудобно. Тогда приходилось как-то искать равновесие, ухватиться за что-нибудь, за сидение или подголовник, упереться ногами в приборную панель. Потом Прайм подкидывал его на пневматике, ноги разъезжались и опять приходилось устраиваться поудобнее.
Вопросы «что за хрень» Оптимус игнорировал и вообще игнорировал Кейда. Только заставлял его скользить по кожаной обивке и дышать чаще. Потом повышал температуру в салоне и ждал, когда Кейд начнет жаловаться и попросит перестать. А затем игнорировал его. Слушал, как Кейд заводится, и блокировал все кнопки и рычаги, если тот пытался как-то повлиять на его системы. Ждал, пока он, не стесняясь в выражениях, выскажется по этому поводу, потом демонстративно замолчит, потом в бешенстве начнет стаскивать футболку и прижмется наконец обнаженной кожей к спинке сидения. Тогда Прайм включал вибромассаж и какую-нибудь дурацкую песенку в придачу.
Человеческое прикосновение очень локальное и какое-то экзотическое. Поначалу оно смущало. Снаружи корпус защищен броней, ее чувствительность очень низкая, но в кабине датчики острее реагируют на раздражители. Прайму потребовалось время, чтобы свыкнуться с постоянным давлением на сенсоры. Это не приносило вреда и больше всего походило на то, что люди называют щекоткой. Но невозможно ехать спокойно, если тебя все время щекочут изнутри. Раньше он никому не позволял подобного и, тем более, никогда никого не провоцировал. Впрочем, он много чего не позволял себе раньше. Правила изменились.
Теперь он лучше понимал Би, его странные пристрастия и, как следствие, постоянную потребность в человеческом присутствии. Хуже было только подсесть на дрифт. Человеческая кожа – это всегда небольшое излишество: слишком тонкая, слишком мягкая, слишком влажная, чтобы не отвлекаться на ее нежное прикосновение. Стук сердца слышен через нее даже без дополнительной настройки аудиосенсоров. Это отлаженная работа насоса, гоняющего живительную, как энергон, жидкость по чужому теплому корпусу. К этому ритму можно было подстроиться, записать его на носители, как остальную человеческую музыку. Записать прерывистое дыхание, смех, ласковые просьбы, чуть погодя стоны. Этот звуковой рисунок заставлял поршни Оптимуса ускорять ход. Насосы гнали топливо быстрее, шины нагревались от возрастающего трения. А если на трассе встречались другие автомобили, то идти на обгон, пролетая буквально в дюймах от них, становилось особенным, острым удовольствием. На тонкой грани аварийной ситуации, которую он не хотел переступать. И не только потому, что продолжал придерживаться кодекса автоботов, а еще потому, что ему нравилось балансировать на скоростном лезвии. Но и тогда Прайм не произносил ни слова.
И только удостоверившись в том, что достаточно разогрел своего пассажира, он ослаблял ремни и начинал вдруг шептать такие нежные и откровенные слова, что Кейд с удивлением замирал. Ему давно никто не говорил ничего подобного, а может, и вообще никогда. Тем более странно было слышать это от робота. Люди не всегда спешат делиться друг с другом магией слов, особенно тех, что способны пробуждать от спячки даже уставшие души, хрупкие, как засохшие между страниц цветы. Но у Оптимуса получалось легко и искренне. Кейду становилось так хорошо, будто он погружался в глубокий причудливый сон, в котором под кожу, прямо в кровь проникал полунаркотический межзвездный туман, а в голове распускались спиральные неоновые цветы с хромированными листьями.
Голос Прайма, искусственно правильный, чистый, без примеси южного акцента, с идеально подобранными обертонами и неуловимыми металлическими нотками, похожими на рассыпанную по бархату платиновую пыль, доносился отовсюду, смешиваясь с гулом двигателя. Проникал прямо в центры удовольствия в мозгу. Кейд думал, что, может быть, эти загадочные ксенологи были правы в том, что у двух рас существуют общие понятия: о жизни, о личности, о слабостях. Ведь Оптимус так просто и точно находил самые беззащитные, уязвленные, хрупкие грани его души и ласкал их сочувствием и нежностью. Как будто целовал абсолютным космическим приятием прямо в гулко бьющееся сердце. Почти физически заполнял своим вниманием душевную пустоту, сочился через край.
Кейд прижимался к рулю и стонал от удовольствия, стискивая кожаную оплетку и кусая себя за пальцы. Прикосновения инопланетного разума сводили его с ума его не меньше, чем прикосновения тяжелых рук.
Иногда Прайма словно заедало, тогда слова копировались, как вирус, и он повторял только: «Кейд, Кейд, Кейд...»
Оптимус мог ласкать его слух неприлично долго, и когда его присутствие в голове становилось непереносимым, Кейду легче было расстегнуть джинсы и сдаться – очень быстро.
Знай об этом «Пуритане Юга», они непременно потребовали бы экстрадиции Оптимуса с планеты. Да и Кейда заодно.
– Вот что я решил, – сказал Прайм, возвращая Кейда из воспоминаний в реальность техасских дорог. – Я прошу тебя не слушать меня и продолжать делать все вышеперечисленное, как раньше.
*
К трем часам солнце уже как следует разогрело землю и воздух. На горизонте, который, казалось, был пришит к высокому небу тонкой желтой ниточкой, виднелись крохотные силуэты редких деревьев и фермерских домов. Расстилавшийся на многие акры справа от дороги зеленый прямоугольник поля был огорожен покосившимся заборчиком из проволоки. Слева желтый, зараставший сорной травой, подступал прямо к обочине. Прайм едва помещался на узкой грунтовой ленте. Он ехал неторопливо, словно осматривался.
– Можешь встать в мастерской, там хватит места. Лучше вариантов у меня все равно нет.
Грузовик медленно подкатил к дому, мелкие камни хрустели под колесами. Кейд глянул на дверь: конечно, он ее оставил нараспашку. Утешало то, что брать было нечего: ничем ценным он все равно не обзавелся.
– У меня вариантов еще меньше, – Прайм повернул колеса к высокой постройке.
Кейд вышел, распахнул ворота и помахал ему.
– Припаркуй меня, если хочешь.
– Доверяешь? – Кейд вернулся в кабину.
Он отвык и от этих габаритов. Грузовик вползал в помещение очень медленно и все равно задевал стеллажи и коробки. Под колеса попало что-то хрупкое и рассыпалось.
– Припаркуй меня хорошенько.
Кейд вздохнул:
– Тебе не надоедает, верно?
– Сейчас заглохну от твоего скучного тона.
– Не нагнетай только, а.
– Сколько суеты, Кейд.
Наконец двигатель замолчал. Но покидать салон совершенно не хотелось. Кейд обвил руль руками и уткнулся в него лбом.
– Не бросай меня больше. Второго раза я просто не выдержу.
– Выходи из кабины сейчас же!
Раздражение в голосе Прайма напугало его. Он спешно выбрался из салона и, запнувшись о валяющиеся на полу кабели, отошел на несколько шагов. Отходить приходилось всегда, когда Прайм трансформировался: даже это он делал как-то опасно. Вместе с Оптимусом вернулся и весь производимый им шум. Автобот встряхнулся, затем присел. Он оказался так близко, что стали различимы царапины и потертости на броне. Края некоторых пластин были оплавлены.
– Вот что, ты, похоже, не понимаешь и половины того, что происходит, – он толкнул Кейда пальцем, и это не было бережным прикосновением. Это было грубо и ощутимо. Кейд машинально потер грудь.
– Я объясню тебе один раз. Если к разуму – разуму, намного превосходящему ваш, людской – добавить силу, большую силу, превосходящую мою, последствия могут быть катастрофическими. Когда силы много, она начинает искать конфликт, искать другую силу. Это происходит всегда, потому что одна сторона постоянно пытается реализовать себя через другую, овладеть ею, уподобить себе, а если не получается – бороться с ней, подчинить или разрушить. И в этом конфликте могут страдать третьи стороны. Сейчас это люди. Это ты. Есть достаточно сил во вселенной, готовых поглотить или уничтожить вас. По множеству причин. А кроме этого всегда существуют опасности стихийного порядка. И никогда не следует забывать об угрозе, что пока не названа и скрыта во тьме. На одну силу всегда находится другая, так устроен порядок вещей. Одна из этих сил я. Даже если я не хотел становиться ею, теперь я ею являюсь. Я не могу колебаться, когда одной из сторон нужен противовес. Это моя судьба. Угроза всегда больше, чем ты можешь представить. Я вынужден мыслить стратегически. Ты, видимо, не хочешь осознавать, что я делаю для тебя, раз не понимаешь, что у меня не было времени прохлаждаться в гараже, просто потому что ты об этом попросил. Я улетел, исполняя данное тебе же обещание. Я оставил тебя в полной сохранности, в безопасности, под присмотром других автоботов.
Когда я вернулся, мне было необходимо установить новые договоренности с вашими властями. Это унизительно, учитывая то, что мы делали для людей раньше. Но мой статус изменился. Возможно, для меня в этом скрыт урок. Теперь я вижу, что Сентинел был прав. Кем бы мы ни были на Кибертроне, здесь мы просто машины. Но продолжая существовать в маскировке, я не желаю жить, как беглец, хочу быть свободным в выборе дорог. И как только я решил все вопросы, я отправился к тебе.
Этот долгий путь мне пришлось преодолеть на колесах: я не мог приземляться прямо у твоего дома, не привлекая внимание. Воздушное пространство вашей страны – пункт договора. Но я спешил изо всех сил. Я ехал очень быстро. Не так «быстро», как ты это называешь, а так быстро, как называю это я. Я нарушал ваши правила. Я предполагаю, что ваши органы правопорядка выпишут массу штрафов, и благодаря этому я тут же обеспечу себе проблемы по только что достигнутым договоренностям. Но если они зададутся вопросом, куда направить свои жалобы, я назову твой адрес, потому что я ехал к тебе, я ехал домой. Я жег топливо, как звезды жгут топливо в своем нутре, чтобы добраться скорее. Я ехал день, затем ночь. Я ехал по хорошим и плохим дорогам, по сухим и грязным, ехал там, где вообще нет дорог. Ты видел сны, а я был в пути. Я спешил изо всех сил, чтобы в конце отдохнуть рядом с тобой, слушать твои странные вопросы, удивляться тебе. Мои шины стерты вашими трассами, я давно без подзарядки. Но когда я приехал, выполнив свой долг, о котором ты и не хочешь подозревать, потому что ты маленький эгоист, ты сообщаешь, что я тебя оставил. Теперь объясни, зачем я драл покрышки?
– Ты думаешь, я реально что-то понимаю в этих ваших звездных войнах? Да как мне вообще было догадаться, что ты вернешься? Когда? Однажды? А если ты опять так же исчезнешь однажды, ничего не обещая? Ты мой друг, может быть, единственный оставшийся, а сделал, как я и боялся – бросил меня. Так все со мной и поступают...
– Я дал слово Прайма.
– Мне от него пользы, как от... дохлой собаки! – Кейд тут же пожалел о словах.
Когда он в редкие минуты просветления представлял себе, что скажет Прайму, если тот все-таки вернется, дохлых собак в этих фантазиях точно не было.
Оптимус поднялся. Кейд услышал только гул серво, но не рискнул посмотреть на автобота. Когда ему приходилось так задирать голову, разница между роботом и человеком приводила в отчаяние. До Оптимуса было не дотянуться, не только в буквальном смысле.
Зато Прайм какое-то время рассматривал Кейда с высоты своего роста, потом издал звук, как будто пытался прочихаться двигателем.
– Чуть не забыл, какой ты смелый.
Гроза миновала, Кейд немного успокоился и попытался найти опору, прислонившись к старому верстаку. Оптимус разглядывал помещение, задевая свисающие со шкивов цепи и веревки. Даже если мастерскую восстановили с нуля, как рассказал Кейд, сейчас она ничем не отличалась от прежней версии. Как будто у Кью в отсеке. Полнейший хаос. Оптимуса коротило из-за способности человека устраивать бардак повсюду: в мастерской, в его кабине, в своей голове. Коротило и плавило.
Он вернулся взглядом к Кейду.
– Знаешь, пока ты где-то летаешь, я десять раз постарею и умру, а на тебе разве что новые царапины появятся, – сказал Кейд, убедившись, что Оптимус слушает. – Я загнусь гораздо быстрее тебя – вот правда моей жизни. Сколько мне осталось? Пять, десять, пятьдесят лет – раньше мне казалось, что любого срока достаточно, хотя всегда загадываешь на подольше. И вообще, думать о таком страшно. Но узнав тебя, я понимаю, что этого так мало. Я не хочу тратить время на то, чтобы дожидаться, а потом... Черт, я думал, я рехнусь, пока ждал тебя. Ты же можешь представить, что значит – оставаться одному в пустом доме каждый вечер. Просыпаться каждое утро и видеть, что ничего не изменилось. Что все, кто тебе дорог, тебя оставили. День за днем, месяц за месяцем. Два чертовых года. Я ждал и ждал. Я так по тебе тосковал, а потом отчаялся ждать. И попытался собрать то, что у меня осталось от прежней жизни. Она, может, и не подарок, но она всё, что у меня есть. Совсем обычная жизнь, никаких больше людей в черном и инопланетных пушек. Я жил так до этого немало лет и еще надеюсь прожить. И только я хоть немного пришел в себя – ты как снег на голову, взял и всё перепутал. Опять тащишь куда-то, даже не спрашивая. И еще рычишь на меня, когда я просто хочу, чтобы ты меня успокоил. Почему ты все время пытаешься со мной бороться? Ты привык все время сражаться, ты этого не замечал? Ты и меня все время держишь в напряжении. Тебе меня победить хочется – ты победил. Только я не знаю, какой приз тебе вручить.
Прайм молча опустился на одно колено, потом на другое и продолжал медленно наклоняться, так что Кейду показалось, что он вот-вот упадет, как колосс, которому перебили ноги. Оптимус уперся на руку и импульсивно прижался к Кейду лицом, заставив его отъехать на несколько шагов вместе с верстаком. Кейд прикоснулся к лицу Прайма впервые с момента разлуки. Трещины на тусклой металлической поверхности выглядели, как шрамы.
Какая ерунда всё и как всё нелепо вышло. Надо было давно заткнуться и просто прижаться к его холодным губам, пока есть время. Так здорово делать, если день выдался жарким, как этот. Кейд потерся о прохладный металл. Скоро он потеплеет из-за его прикосновений. Оптимус боднул Кейда пару раз и затих. Это было лучшее молчание на свете.
Когда Прайм через какое-то время заговорил, Кейд через одежду почувствовал движение его губ.
– Я тебя услышал. Обида застилает тебе глаза. Поэтому ты печалишься из-за Прайма, который ушел, вместо того, чтобы принять того, который вернулся. Но пойми и ты. У тебя есть жизнь, а у меня нет ничего, кроме жизни. Мне нужно искать новое знание о себе в ходе вещей. Мне нужны помощь и поддержка. Быть может, признание подобной слабости послужит тем немногим, что еще отличает меня от десептикона. Мне не стыдно признаться в этом тебе, ты знал меня сломленного. Теперь я прошу тебя снова: утешь меня, облегчи мою ношу. Не печалься о том, что было или будет. Не трать наше время. Мы должны признать, что и пять, и пятьдесят лет, и сотни ворн можно провести в скорби или радости – выбор все равно ложится на наши плечи.
Кейд почувствовал прикосновения его пальцев, такие нежные, совсем не похожие на движения манипуляторов тяжелой машины. И, разглядывая его, подумал, что Оптимуса роднит с людьми вовсе не форма корпуса, не то, что он говорит на одном с ними языке, а то, как он смотрит – устало и ласково.
– А, проклятье, я вовсе не для того так спешил, чтобы выступать с речами. Хватит этого, – Прайм вдруг стиснул пальцы и встряхнул Кейда. В оптосенсорах зажглись искорки.
– Есть в тебе что-то, что заставляет меня ускоряться. Я посажу тебя в кабину и повезу так далеко и быстро, что тебе придется прижиматься ко мне, пока ты не расплавишь меня до последней шестерни.
– Хотя бы не отстегивай ремни по дороге.
– Даю слово ценой в дохлую собаку.
*
В стране ужасных чудес время заката. Но не видно светила, которое замерло бы у горизонта монетой из червонного золота. Только тьма, подкрашенная рыжиной, и серебристые искорки звезд на ней. Старый фонарь у заброшенной остановки разбрасывает желтые электрические мазки по осколкам стекла и бумажному сору.
Путник пытается очистить одежду от пыли, но она въедается в ткань, в кожу, заставляет прятать глаза. Песок скрипит под ногами. Куда бы путник ни шел, он все время возвращается к фонарю. Рядом с остановкой – мусорный бак, в котором горит разный хлам, но огонь не греет, только светит. А по другую сторону черной дороги воткнут большой плакат с рекламой пива, пожелтевший и истрепанный. Слоган на нем напечатан неземными словами. Дует холодный ветер. Кто-то ходит во тьме.
Путник садится у дороги, дышит в ладони, пытаясь согреться, и ждет хоть чего-нибудь.
Мрак вдали разрезают лучи холодного белого света. Как будто смерть зажигает огни на своей голове, чтобы выйти на охоту.
Грузовик выплывает из пепельного тумана, как левиафан. Вместо глаз у него габаритные огни.
Подъезжает, замедляя ход. Подкрадывается, словно боится спугнуть. Он прячет хищную пасть под решеткой радиатора, втягивает шипы и гудит тише. Из ран на капоте сочится вязкая жидкость.
Он подъезжает к фонарю, шипит переработанным ядовитым воздухом и замирает всем своим большим теплым телом. Король пустых дорог и ржавого металлолома. Пастырь механических мертвецов.
У него нет дверей, но боковая стенка раскрывается по частям, и становится видно, что внутри него совсем как дома: тепло и безопасно. Хотя и очень темно. Зато там можно свернуться клубком и спать, спать... И грузовик убаюкивает, раскачивая кабину, и мурлыкает, как большой кот.
Человек знает, что шансов поймать другую попутку у него нет. Он забирается в кабину. Грузовик трогается с места и продолжает бесконечный путь по стране ужасных чудес, где дождь падает с черной земли в звездное небо, дикие цветы распускаются пряным дурманом, а дороги замыкаются сами на себе, как Уроборос, кусающий себя за хвост.
Винсент Прайс говорит, что всё в порядке.